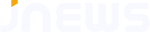23 августа в годовщину Декларации независимости Армении премьер-министр Никол Пашинян сделал очередное спорное обращение, в котором он попытался переосмыслить современную историю страны. Он утверждал, что декларация 1990 года, хотя и стала важной вехой, была сформирована карабахским движением и советской моделью патриотизма, основанного на конфликте, что в конечном итоге помешало Армении построить подлинную государственность.
Эта риторика относительно Декларации независимости не нова. Пашинян повторяет её публично с 2022 года, часто говоря о необходимости переосмысления как современной, так и более ранней истории Армении. Эта риторика тесно связана с требованием Азербайджана изменить конституцию Армении и убрать ссылки на декларацию 1990 года, в которой упоминается решение Верховного Совета Советской Армении 1989 года об объединении с Нагорным Карабахом. Пашинян и его правительство, похоже, готовы принять новую конституцию, хотя и отрицают связь этой инициативы с требованиями Баку. Тем временем они готовят население к таким переменам, и переосмысление исторических фактов является частью этих усилий.
Ещё более поразительным в речи 23 августа — и логическим продолжением вышеупомянутой риторики — было объяснение Пашиняна, почему он не пошёл на уступки до Второй карабахской войны. Он утверждал, что «в результате этих уступок все угрозы и зависимости, которые у нас были, ещё больше возросли бы, непропорционально возросли бы, что привело бы к потере независимости и государственности Армении».
Двумя месяцами ранее, выступая в парламенте, Пашинян уже продвигал эту риторику. Он заявил, что Армения «не потеряла Нагорный Карабах, а обрела Республику Армения».
Эти заявления показательны, поскольку они отражают недавнее изменение позиции правительства относительно своей ответственности в период, предшествовавший Второй карабахской войне.
Сразу после 2020 года Пашинян утверждал, что вместо того, чтобы обвинять его в намерении уступить земли до войны, критика должна была быть в следующем: почему он не пошёл на уступки, чтобы её предотвратить. Он даже неоднократно заявлял, что войну можно было предотвратить, но ценой сдачи семи районов, прилегающих к Нагорному Карабаху.
Теперь даже это ограниченное признание ответственности исчезло. Вместо этого Пашинян утверждает, что уступки лишь усилили бы зависимость Армении от России, намекая на так называемый «план Лаврова», предполагавший размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Но вот в чём парадокс: именно этот сценарий и воплотился в жизнь после войны, только в гораздо худших условиях — после сокрушительного поражения, огромных территориальных потерь и тысяч жертв. И всё же Пашинян теперь представляет это как путь, якобы укрепляющий суверенитет Армении.
Эволюция риторики с 2020 года наглядно иллюстрирует этот сдвиг. Сразу после войны правительство и правящая партия объясняли поражение структурными аргументами, подчёркивая объективные недостатки и дисбалансы Армении с Азербайджаном накануне конфликта. В начале 2021 года Пашинян и другие официальные лица неоднократно цитировали доклад государственного аналитического центра за 2017 год, в котором отмечалось отставание Армении от Азербайджана в области критически важной инфраструктуры в соотношении 10 к 1. Это было обоснованное замечание, но оно представляло лишь часть картины, упуская из виду неструктурные факторы, обусловившие поражение Армении, а именно решения и политику правительства в преддверии и во время войны.
Однако к 2022 году усилия правительства по объяснению катастрофы в Нагорном Карабахе сместились в сторону переосмысления переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном в годы, предшествовавшие войне. Поворотным моментом стала речь Пашиняна о «снижении планки» в апреле 2022 года, после чего правительство начало переосмысливать весь мирный процесс, часто искажая многочисленные детали предложений. Пашинян возглавил эту кампанию, утверждая, что к моменту Бархатной революции 2018 года у Нагорного Карабаха не было реальной возможности иметь статус вне Азербайджана. В более позднем заявлении он пошел дальше, сказав, что весь мирный процесс с 1994 года был направлен на возвращение Нагорного Карабаха Азербайджану.
Однако реальность мирных предложений и посреднических усилий, предшествовавших Второй карабахской войне, была более сложной. Они не предлагали однозначного выбора между независимостью и контролем Азербайджана, как утверждает Пашинян. Основная идея заключалась в том, чтобы отсрочить окончательное решение о статусе Нагорного Карабаха, предоставив ему временный статус и фактическое самоуправление. Примечательно, что Пашинян не спешил публиковать предложение Минской группы, которое было представлено в 2020 году, непосредственно перед войной.
Эти зачастую легкомысленные и вводящие в заблуждение интерпретации мирного процесса, существовавшего до 2020 года, стали основой показаний Пашиняна перед парламентской комиссией по расследованию 44-дневной войны. Можно утверждать, что одной из главных целей комиссии было легитимизировать эти интерпретации и снизить ответственность правительства за его политику и действия до и во время Второй карабахской войны.
Более поздние заявления — о том, что уступки обрекли бы Армению на провал или что суверенитет был «обретен» только после поражения — представляют собой кульминацию этой траектории: повествование, в котором сама потеря преподносится как победа.
Эти заявления отражают более широкую стратегию правительства после этнической чистки в Нагорном Карабахе в 2023 году: избежать прямой ответственности за поражение, одновременно представляя его последствия как возможность. Это выборочная интерпретация, которая смещает эмоциональный вес событий. Это классическая тактика постправды: признание фактов в узком смысле и искажение их значения для общественности.
Проблема в том, что факты на местах противоречат этим заявлениям. Армия Армении потерпела сокрушительное поражение в 2020 году и до сих пор не восстановила свой потенциал. Страна по-прежнему зависит от внешних сил в вопросах безопасности, часто вынуждена просить о внешней помощи. В этой ситуации мысль о том, что Армения «обрела себя» или стала более суверенной, трудно согласовать с реальностью, особенно учитывая, что часть суверенной территории Армении остаётся под азербайджанской оккупацией.
Более того, тот факт, что Еревану в последние годы удалось диверсифицировать свою внешнюю политику и связи в сфере безопасности, является прямым следствием полномасштабного вторжения России на Украину, а не потери Нагорного Карабаха. Увязнув в украинских делах, Москва утратила свою традиционную роль на Южном Кавказе, создав вакуум власти. Невыполнение обязательств перед Арменией после азербайджанского нападения в сентябре 2022 года вынудило Ереван начать диверсификацию. Это было не частью заранее разработанной стратегии, а спонтанной реакцией на меняющуюся геополитическую реальность.
Устойчивость этих нарративов лучше всего объясняется политической необходимостью. Вопрос ответственности за потерю Нагорного Карабаха будет тяжким бременем висеть на плечах Пашиняна и его партии долгие годы. По мере приближения выборов этот вопрос неизбежно всплывёт. Переосмысливая поражение как открытие и злоупотребляя понятием суверенитета, правительство надеется контролировать эти дебаты и критику.
В конечном счёте, эти аргументы отражают скорее пропагандистские нужды, чем подлинную попытку переосмыслить недавнюю историю Армении. Они направлены на переосмысление поражения таким образом, чтобы правительство могло избежать ответственности и подготовиться к предвыборным баталиям, в которых неизбежно всплывут воспоминания о 2020 году. Утверждение о том, что Армения «обрела себя» после потери Нагорного Карабаха, — это не столько оценка государственности, сколько политический приём, призванный превратить одну из величайших национальных трагедий Армении в мнимое достижение.
Статья публикуется в рамках партнерства по обмену контентом с OC Media. Вы можете прочитать оригинал на английском языке здесь.
Автор – Тигран Григорян